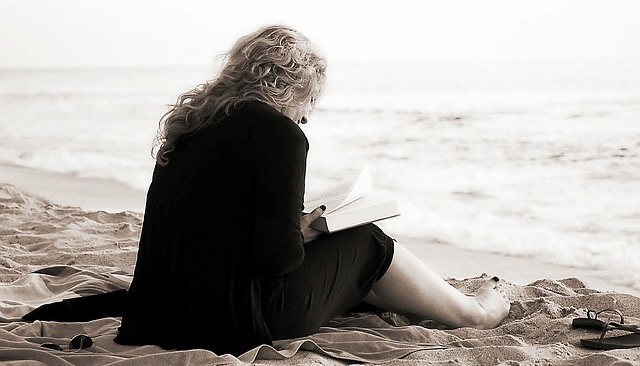| Главная » Статьи » Научные |
Как известно, психология испытывает в этом отношении значительные трудности. При этом нередко наблюдается такой кажущийся парадокс: чем более употребительным является понятие в речевом обиходе и чем легче открывается его содержание "интуитивно", тем большие трудности с его определением испытывает наука. Именно так обстоит дело с понятием "память", с которым по индексу частотности не может сравниться ни одно другое слово из числа обозначающих различные психические процессы, исключая, может быть, только "внимание" [20, с. 94]. Эти понятия занимают, по-видимому, и самые высокие места по степени неопределенности своего содержания в науке. Память, например, до сих пор определяется в психологии с помощью перечня образующих ее процес-сов - запоминания, сохранения, воспроизведения, т. е. понятие "память" не имеет научной дефиниции. Сегодня, называя память одним из познавательных процессов, мы не можем ответить на вопрос, где проходят "онтоло-гические" пределы, которые отграничивают ее от других психических функций. Упомянутый парадокс отнюдь не означает, что понятия, наиболее распространенные в житейском обиходе, оказываются просто обойденными вниманием научной психологии. Парадокс как раз и усиливается тем, что эти понятия, как правило, и в науке занимают центральные места. Проблема памяти, например, по выражению П. П. Блонского, является "ровесницей психологии как науки" [5]. Особое место памяти среди психических функций часто видят в том, что "ни одна другая функция не может быть осуществлена без ее участия" [9, с. 7; 15, с. 283]. Поскольку и сама память немыслима вне других психических процессов, то проведение соответствующих разграничительных линий оказывается просто невоз-можным. В итоге вместо выявления искомой специфики мы говорим о том, что поиски "чистой" мнемической функции следует признать ненаучной задачей. Практически это приводит к тому, что мы либо вовсе теряем память из виду, либо не можем найти в психике ничего, кроме памяти. Возникает вопрос: что же тогда исследуют психологи, изучающие память? Память действительно можно найти во всем, и чем бы психолог ни занимался, о чем бы ни размышлял, это будут, конечно, и размыш-ления о памяти. Беда в том, что когда он начинает искать память "как таковую", то его предмет неизменно рас-творяется в "другом". Изучают, например, условия организации познавательной, в том числе так называемой мнемической, деятельности, обеспечивающие высокую продуктивность процессов памяти. Величина вклада этих исследований в разработку проблемы памяти определяется тем, насколько приближаются они при этом к адекватному пониманию и вычленению самого предмета исследования. Иногда для снятия проблемы "собственной" специфики памяти привлекают понятие "системы". Однако системный подход ориентирует на изучение целого отнюдь не путем размывания границ между его частями. Одно из центральных требований системного анализа именно и состоит в достаточно четком определении этих границ "для отделения объекта от среды и разграничения его внешних и внутренних связей" [21, с. 251]. Точно так же преодоление функционализма в психологии предполагает не пренебрежение к специфике функции, а, наоборот, специальное к ней внимание, так как без этого не может быть обозначено действительное место функции в структуре целого. Действительное определение понятия "память", равно как и содержательное описание каждого из ее процессов, предполагает ответ на два вопроса: что? и для чего? -и соответственно должно содержать в себе два предиката. С этой точки зрения память могла бы быть предельно лаконично определена как психический процесс, представляющий собой продукт предшествующего и условие предстоящего действия (процесса, опыта). Собственно дефинитивным здесь является второй предикат, поскольку им определяется и первый: путь к ответу на вопрос что? лежит через ответ на вопрос для чего? Эта идея при всей своей простоте и естест-венности выводит на некоторое "нетрадиционное" представление о психологической природе памяти и под-робнее будет развита ниже. В истории изучения процессов памяти, равно как и определения самого понятия, практически безраз-дельно господствует тенденция, которую можно назвать ретенциональной (ретенция-удержание, сохранение). Согласно этой тенденции, при рассмотрении содержания понятия учитывается только тот его предикат, кото-рый указывает на результат, итог, след прошлого опыта. В поле внимания оказывается только вопрос что?, и функция памяти будто бы строго локализуется на ее специфическом объекте (прошлое). Поскольку, однако, предполагается, что этим вопросом исчерпывается вся проблема, значение "результата" и "продукта" оказыва-ется настолько генерализованным, что оно делает действительно синонимичными понятия "память" и "психи-ка". В этом смысле научные представления о памяти по своим общим очертаниям совпадают с житейскими. Формула animus est ipsa memoria (душа все равно что память) вполне коррелирует с обиходными представле-ниями, согласно которым "потеря памяти" равноценна "потере сознания". Для восстановления утрачиваемых при этом разграничительных линий между памятью и "остальным" содержанием психики необходимо отчетливо выделить следующие два момента. 1. По отношению ко всем другим процессам, образующим "первичный" психический продукт (отра-жение, образ "видимого"), память выступает как "вторичный" продукт (отражение отражения, представление "невидимого") или, выражаясь словами Гегеля, "продукт самой интеллигенции". В отличие от других познава-тельных процессов память не связана непосредственно с миром вещей и проявляется "в сфере духовного как такового" [8, с. 2711. Петит. Обозначенное здесь различение первичного и вторичного продуктов психики в сущности давно уже закреплено психологической традицией в понятиях "образ" и "представление". Однако это различение оказалось сегодня как бы забытым: изучение природы соответствующих психологических реальностей практически полностью вытеснено из современной научной психологии. Подтверждением тому может служить, например, исчезновение из активного психологического словаря таких понятий, как "образ памяти" [14, с. 289], или такой оппозиционной пары понятий, как "представление памяти - представление воображения" [10, с. 1521. Психология памяти как будто не ощутила от этого больших потерь, однако с уходом из ее поля зрения указанных понятий утрачивается та часть ее собственного предмета, которая уже была адекватно ею определена. 2. Будучи продуктом других психических процессов, память не может быть им противопоставлена так, как противопоставляются друг другу "результативное" и "процессуальное". Никакой продукт психики не может выступать в ней иначе, как в форме процесса, и никакая "структура" не может существовать иначе, как в форме функции. Следовательно, границу между памятью и другими психическими процессами следует прово-дить не по этой линии. Ее следует искать внутри процесса, различая и выделяя в нем "процесс-функцию" и "процесс-структуру" (т. е. некоторый "результативный" акт по отношению к предшествующему процессу). Возникает вопрос, снова возвращающий нас к исходной проблеме: можно ли выделить "чистую" па-мять внутри мышления и, наоборот, существует ли "чистая" функция мышления, несводимая к памяти? Если результат решаемой субъектом задачи в данный момент еще не входит в содержание его памяти и находится "вовне", то, значит, он и не может быть получен средствами самой памяти. Следовательно, добыть его (буквально-"промыслить") субъект может только средствами другого процесса. "Суверенность" этого дру-гого, следовательно, не подлежит сомнению. Вместе с тем "другое" может существовать как процесс только при условии непрерывных переходов "функции в структуру" и структуры в функцию. Это означает, что всякий познавательный процесс непрерывно превращается в память и всякая память превращается во что-то другое. Где же следует искать момент превращения, отграничивающий одно от другого? Согласно нашим представлениям, эта граница может быть отчетливо обозначена в соответствии со следующим критерием. Всякий психический процесс превращается в память в тот момент, когда он становится условием осуществления другого процесса (или последующего шага того же процесса). Это означает, что, превращаясь во "вторичный" продукт и приобретая способность осуществляться в плане "чистого" представления, он может служить внутренней опорой для дальнейшего развития процесса. Таким образом, "элементом памяти" становится все, что, "удаляясь" от "вещественной" определенно-сти психики, переходит "в сферу духовного как такового", т. е. становится представлением. По поводу этого утверждения можно, однако, сказать, что "в сфере духовного как такового" могут протекать не только процессы памяти, но и мышления или воображения. В конце концов даже восприятие не является вполне "непосредственным" психическим процессом. На это можно ответить: всякое психическое опосредствование предполагает участие "элементов" па-мяти в процессах того же восприятия или мышления. Этим, однако, не исчерпывается проблема собственно мнемического опосредствования. Мышление, например, является опосредствованным процессом по определе-нию. Однако оно состоит не из одних только "мнемических компонентов". Извлечение нового содержания из "старого" понятия есть операция "чисто" мыслительная, хотя само это понятие уже есть продукт памяти. Этот продукт включается в мыслительный акт как некоторая "духовная вещь", сквозь которую всегда просвечивает образ, "заимствованный из непосредственной, недуховной определенности" интеллекта [8, с. 271]. Память же имеет дело не с этой "вещью", а с ее "вторым отражением", которое занимает ее не само по себе и не в своих отношениях к реальному миру, а со стороны своих смысловых отношений с картиной уже организованного памятью индивидуального опыта. В памяти "мысль" превращается в "мнение", продолжающееся в "сo-мнении". Таким образом, можно сказать, что всякое содержание психики переходит в память в тот момент, ко-гда оно перестает быть собственно "целевым" элементом познавательного процесса и приобретает служебную функцию по отношению к новому элементу, занимающему место цели. Наши исследования показали, что не-обходимым и достаточным "внешним" психологическим условием для такого превращения является наличие у субъекта в процессе осуществления того или иного действия ориентации на предстоящее. Характер и особен-ности такой ориентации закономерно определяют соответствующие характеристики процессов памяти. Полу-чается, что основным фактором, конституирующим человеческую память, является не то, что "было", а то, что "будет". Можно сказать иначе: то, что "было", закрепляется в памяти постольку, поскольку оно нужно "будет", т. е. ее (память) определяет в точном смысле слова не прошлое, а "будущее". К такой "нетрадиционной" идее приводит нас анализ вполне "традиционных" представлений, но проводимый под новым углом зрения и под-крепляемый новыми экспериментальными фактами [16]. В противовес ретенциональной традиции эта линия анализа может быть определена как интенциональная (интенция - устремленность, направленность). Если трактовка психологической природы памяти с этих позиций может показаться неожиданной, то только потому, что традиция, прочно закрепив за памятью функцию отражения прошлого, сделала эту функ-цию как бы несовместимой с ориентацией на будущее. По крайней мере, эти две временные "модальности" в приложении к памяти оказались принципиально разорванными. В том, что память вообще "нужна" для предстоящей деятельности, никто, конечно, никогда не сомне-вался. Тезис об ориентации на будущее в этом смысле представляется вполне тривиальным: естественно, что "отражение прошлого" необходимо для "служения будущему" [23]. Дело, однако, в том, что "отражение прошлого" и "служение будущему" рассматриваются как две раз-личные функции памяти, несопряженные и независимые, разведенные и во времени, как разведены во времени зарабатывание и расходование денег. Наиболее ярко этот антагонизм функций выразился в разведении запоминания и воспроизведения как автономных и независимых "действий". Вся проблема состоит в том, чтобы в служении будущему увидеть единую дефинитивную функцию памяти, изначально предопределяющую ее "начало и конец", а в "отражении прошлого" еще до его возникно-вения увидеть средство, все характеристики и самый механизм которого с самого начала предопределены тем, что нужно будет (разумеется, в его субъективном отражении). Ни один предшествующий шаг деятельности не запоминается иначе, как для осуществления после-дующего. Наличие в памяти "пассивного" латентного слоя этому утверждению не противоречит. Гипотеза "сплошной записи" опыта также не исключает, а предполагает его непрерывную организацию. Из двух упоми-навшихся выше предикатов памяти ("что?" и "для чего?") императивной властью наделен второй: "что?" может длиться только в "для". В этом смысле запоминание не отделено от воспроизведения функционально. В реаль-ной деятельности эти процессы сопряжены, даже если "для наблюдателя" (в том числе и для "самонаблюдате-ля") они разделены во времени. Они сопряжены и в самом сохранении, которое может быть понято как опыт, длящийся постольку, поскольку существует "для", и представляющий собой, следовательно, непрерывное вос-произведение "прошлого опыта", включенного в актуальные жизненные задачи. Из сказанного видно, что интенциональный подход по существу предполагает замену ряда ключевых понятий общей теории памяти какими-то их "антонимами", каких пока нет в нашем обиходе. Единственная попытка такой замены одного из этих понятии была предпринята Ф. Бартлеттом (F. Bartlett), который стал употреблять понятие "реконструкция" вместо "репродукция" [22]. Мы говорим "попыт-ка", потому что предполагаемая ею "метаморфоза" понятий приобрела в науке лишь полупризнание. Наше традиционное мышление до сих пор еще не рассматривает даже и эту пару понятий (репродукция - реконструкция) как полностью оппозиционную, хотя бы в такой мере, как в характеристике самого мышления мы различаем "продуктивные" и "репродуктивные" процессы (между прочим, по традиции сближая с памятью именно "репродуктивное" мышление, как это делали П. П. Блонский, Л. С. Выготский, да и вообще все, кто этого вопроса когда-либо касался). Мы все еще считаем (и сам Бартлетт тоже подавал к этому повод), что реконструкция - это некоторый привесок к репродукции (ее нюанс), означающий некоторые "потери" при воспроизведении. И как бы ни оправдывались эти потери, мы всегда тоскуем по несбыточной возможности безукоризненно точного сохранения "всего" нашего опыта. В этом особенно ярко выражается ретенциональная традиция в понимании самого назначения памяти: подчеркивая в ней результативную функцию, эта традиция в сущности не может принять "след" как процесс, т. е. как непрерывное изменение картины индивидуального опыта. Напротив, само предназначение памяти выступает для нее как restitutio ad integrum (в смысле "восстановления исходного"). Нам представляется, что упомянутое "полупризнание" предложенной Бартлеттом понятийной мета-морфозы объясняется тем, что центр внимания при этом не был решительно смещен на вопрос "для чего?". Вопрос о том, для чего нужна реконструкция, не стал главным и определяющим при рассмотрении самой пси-хологической природы памяти. Но если оппозиционная пара "репродукция - реконструкция" хотя бы заявлена в науке, то соответст-вующее преобразование других понятий никогда не подразумевалось и представляет сегодня поистине непре-одолимую трудность. В самом деле, как найти "адекватную" пару-антитезу к понятию "сохранение"? Ведь это должен быть антоним, но обозначающий "не забывание", а постоянно изменяющееся "удержание". Для обозна-чения этого "сохранения изменения", как и для "запоминания-забывания", у нас действительно не имеется ни-каких средств, "нет слов для выражения". Между тем понятие "сохранение" является ненаучным по существу, оно всегда нас будет путать. При всей своей даже специально оговариваемой метафоричности понятие "хранилище", часто употребляемое без кавычек (см., например, [3 и др.]), закрепляет в науке ту самую ложно-житейскую ориентацию, которую невозможно истребить никакими оговорками о том, что хранилище - это не "склад". Проблема "сохранения" принадлежит к числу наиболее фундаментальных и вместе с тем самых зага-дочных проблем психологии памяти. Изучением его психологического механизма никто и не занимается. В науке не существует не только теорий, но даже правдоподобных гипотез о его психологической природе. Ин-тенциональный подход предлагает одну из таких гипотез, открывающую возможность даже эксперименталь-ной ее верификации, однако он предполагает при этом упомянутую "метаморфозу" самого понятия, требую-щую, в сущности, замены и самого его словесного обозначения. В этом отношении с "сохранением" дело об-стоит сложнее, чем, например, с "репродукцией". Впрочем, для каждого из этих понятий, может быть, и не обя-зательно придумывать новую пару. Достаточно и "сохранение" понять как "реконструкцию", и все остальное то же. В идеальном случае нужны были бы вообще не "пары" понятий - оппозиция должна содержаться внутри одного понятия, выражая диалектику подразумеваемых противоположностей. Если процесс - это изменение, то процесс сохранения- это изменение сохранения, значит, сохранение есть "несохранение" и т. д. Сохранение есть, таким образом, актуализация, непрерывная подготовка опыта к постоянно обновляющимся условиям функционирования, это актуальный модус "прошлого опыта", заданный его ориентацией на будущее. Понятие "реконструкция" следовало бы рассматривать как заранее "включенное" в содержание всех остальных понятий, образующих общую теорию памяти, прежде всего обозначающих ее процессы. Важно только, чтобы реконструкция всегда понималась телеологически, т. е. как необходимо задаваемая предстоящими целями, связанная с ориентацией на будущее, и рассматривалась бы как функция, которую память не "вынуждена терпеть", а для которой она изначально предназначена. Возникает вопрос: если это непрерывное обновление самого "хранящегося" опыта есть некоторая его переработка, то каким программам она подчиняется и как реализуется операционально? Чем она отличается, например, от мыслительной переработки материала, которой должна быть вполне родственна? Иначе говоря, речь идет опять же о специфичности мнемической функции, теперь уже в содержательно-целевом и операцио-нальном отношении, т. е. как функции "преобразования-сохранения". Обозначим здесь в этой связи три существенные особенности, отличающие мнемическую переработку материала нашего опыта в процессе его "сохранения" от его мыслительной обработки. 1. Память - это непрерывный процесс "самоорганизации" индивидуального опыта, никогда не прекра-щающийся в психике человека, подобно тому, как никогда не прекращается процесс кровообращения и кисло-родного обмена в живом организме. 2. Память - это бессознательный процесс, не поддающийся самонаблюдению непосредственно и от-крывающийся индивиду только через свои "продукты". Управлять процессами памяти можно только через по-средство произвольных мыслительных действий. 3. В отличие от мышления память релевантна не целевым отношениям деятельности, а смысловым от-ношениям опыта, которые могут выражаться в интегративных "стратегических целях" или смысловых образо-ваниях личности [2], задающих программу "самоорганизации" опыта. Поскольку память в отличие от других познавательных процессов имеет своим предметом не связи и отношения самих объективных вещей, а отношение субъективных представлений о вещах к сложившейся кар-тине индивидуального опыта, то в этом смысле она не "добывает" нового знания о вещах, а лишь организует и "реконструирует" уже добытое. Если она конструирует новое (например, интуитивное) знание, то не посредст-вом взаимодействия с самими вещами, а из реорганизации отвечающих им представлений. При этом собствен-но новое содержание может появиться в памяти как "угадывание" в еще не оформившемся первичном продукте (т. е. продукте мысли, понятии) уже складывающегося вторичного продукта (представления). Поэтому такое представление - догадка выступает как результат, опередивший процесс. В действительности это представле-ние того, что уже "было" в мысли, но еще не в самом ее целевом "фокусе", а около него. Неслучайно интуитив-ная догадка возникает преимущественно в форме "чистого" образа, иногда в форме некоторого "промежуточ-ного" образования и никогда в форме "чисто" понятийного значения, хотя подлинным ее двигателем является не память, а мышление. Область действительного творчества памяти - это не познавательная сфера, а сфера формирования личности. При этом память, конечно, не "создает" личность своими средствами. Основа формирования лично-сти - опыт как "совокупность взаимоотношений между человеком и объективным миром" [6, с. 126]. Однако если бы продукты этого опыта "сохранялись" в человеке в таком же "элементном" и разобщенном виде, в каком они ему первично даны, они, в сущности, никак не могли бы в нем взаимодействовать. Объединяя эти элементы в некоторую субъективную целостность, память осуществляет психологическое творчество личности в буквальном смысле этого слова (первичное значение слова "творить" - объединять разобщенное). С этих позиций центральная функция памяти-приведение к единству-должна быть "реабилитирована" и в форме restitutio ad integrum. Именно в отношении непрерывной и одновременной работы со своей совокуп-ной картиной индивидуального опыта "широта памяти" противостоит "узости сознания", в которой выражается "целевая" локализация всех других познавательных процессов. Поэтому собственно мнемические процессы оказываются неосознаваемыми, так сказать, по определению. Соответственно и о способах организации представлений (собственно мнемических операциях) мы можем судить только опосредствованно (по результатам различных форм воспроизведения, опыта, в том числе в суггестивных и гипнотических состояниях, по продуктам сновидений, интуитивных догадок и т. д.). Однако эти способы не заложены в памяти "до опыта". Они представляют собой редукцию и перенос мыслительных операций на уровень "бессознательных умозаключений" памяти. Поэтому-то специальная организация "внеш-них" для памяти мыслительных процессов представляет собой наиболее прямой путь "проектирования" и про-цессов памяти. Так, постановка определенных "стратегических задач" (наиболее общих целей некоторого ряда предстоящих действий) достаточно жестко предписывает программу мнемического отбора, селекции организации продуктов промежуточных действий. Таким образом, если объектом мышления являются некоторые "первичные" вещи, обработка которых управляется условиями данной познавательной задачи (т. е. прежде всего целью настоящего момента), то объ-ектом памяти являются вторичные ("мнимые" или "по-мнимые") вещи, обработка которых подчинена обоб-щенным смысловым задачам (т. е. "целям" более или менее отдаленного будущего). Наибольшую власть над памятью имеют "верховные управляющие системы" [4, с. 310], "генерализо-ванные мотивационные диспозиции" [24], определяющие личностные "векторы" (11-13) поведения. Чем более высок их уровень и чем большей является эта их власть, тем более сами они "неподвластны" "непосредствен-ному произвольному контролю" [2]. На вопрос о том, как изменяются сами "векторы", задающие стратегическую программу мнемической реконструкции опыта, нельзя ответить без учета того обстоятельства, что высшие и низшие уровни системы "дивергентны" и взаимозависимы и что "части, в свою очередь, несут в себе предопределение целого" [7, с. 157]. "Содержание следствия всегда имеет в себе сверх того, что оно получило от причины" [18, с. 111]. Осу-ществляемое посредством этой прибавки обратное влияние следствия на его причину обусловливает изменение самой причины. Таким образом, высший уровень за счет своих "элементов" не только себя реализует, но и преобразует. Из изложенного в целом понятно, каково жизненное назначение этого второго, "перспективного" мышления, представляющего собой непрерывную смысловую реконструкцию сохраняющегося опыта. Важнейший момент, который должен быть специально выделен и подчеркнут в этой связи, состоит в следующем. Подобно тому как отдельное движение никогда не реагирует на деталь деталью (Бернштейн), точно так же и память на любые подробности опыта должна "откликаться как целое". Это означает, что в каждый момент осуществления деятельности в нее включается весь "прошлый опыт", или можно еще так сказать: каж-дый элемент "нового" опыта всегда соотносится со всем "прошлым опытом". Это предполагает, естественно, что опыт должен одновременно выступать в форме какого-то интегративного целого, представляющего собой "изономию множественного и многоразличного" [19, с. 239], "координированное единство" всего, "что было накоплено за всю нашу жизнь" [1, с. 44]. Непрерывное воспроизводство такого "психологического интеграла" как необходимого условия развивающейся жизни и деятельности и составляет основную функцию памяти, ес-ли ее рассматривать с операционно-содержательной стороны. Основой такого "интеграла" может быть только некоторая иерархизированная система опыта, которая только и способна с миром вне системы взаимодействовать как целое. Исходя из изложенного, память может быть содержательно определена как психологический механизм (совокупность психических процессов) системной организации индивидуального опыта в качестве необходимого условия осуществления предстоящей деятельности. Очевидно, что выделенная здесь функция действительно специфична и не может быть реализована ни одним другим психическим процессом, взятым в отдельности, в том числе и мышлением. В заключение, возвращаясь к мысли о парадоксальной неопределенности в науке интуитивно понят-ных содержаний, следует подчеркнуть, что обе сферы функционирования психологических понятий (научная и житейская) периодически не только расходятся, но и сходятся. Действительная "экологическая валидность" научного знания предполагает в конце концов его соот-ветствие психологической "натуре". И это соответствие становится тем более заметным, чем более значитель-ным оказывается продвижение знания. И тогда действительный научный прогресс, ознаменовавшийся труд-ным прорывом от сложности к простоте, неожиданно "узнает" в своих новых достижениях "хорошо забытое старое", уже как-то представленное в этой "натуре". Одно из основательных подтверждений этой мысли дает нам этимологический анализ слов, обозна-чающих психологические понятия. В их значениях необычайно тонко и глубоко отражено содержание, к кото-рому на каждом новом витке своего развития все ближе подходит научное знание. Примером могут служить рассмотренные выше черты сходства и различия процессов мышления и памяти в их этимологическом выра-жении. Слово "мышление" буквально означает "добывание" (ср. промысел). Старинный "субъективный" вари-ант слова "мыслить" - "мнети" (ср. мнить, мнение) - содержится в слове "память" ("па-мнеть"), что означает буквально "широкое" или "разлитое" мышление (ср. вода и па-водок), а также вторичное, побочное, сопутст-вующее мышление (ср. труба и па-трубок). Особенно примечательно для нашего контекста то, что память, со-гласно этимологии, это не просто "по-мнение", "длящееся мышление", "после-мыслие", но также и "условие" мышления (ср. па-жить - буквально "необходимое для жизни"). Так же "устроены" и соответствующие слова во многих других языках (ср., например, немецкое Denken-Gedachtniss). Таким образом, получается, что в исходных этимологических определениях психологических понятий уже как бы заложена "информация", долго и многотрудно добываемая наукой и открываемая совсем просто, но "потом". Так, в этимологических определениях понятия "память" уже заложено указание на то, что память -- это не просто "след" мысли, а ее своеобразное продолжение и предпосылка дальнейшего движения. Середа Г. К. Источник: http://ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, Том 6, №6, 1985 | |
| Категория: Научные | Добавил: KateMSU (2011/06/23) | | |
| Просмотров: 2481 | |
| Всего комментариев: 0 | |

 Состояние науки или ее отрасли может быть достаточно объективно оценено по тому, насколько стро-го определены понятия, образующие ее систему.
Состояние науки или ее отрасли может быть достаточно объективно оценено по тому, насколько стро-го определены понятия, образующие ее систему.